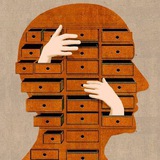Доктор, меня укачивает
Рассказывает невролог, отоневролог Федоров Николай Максимович:
Наш баланс держат трое: внутреннее ухо, глаза и мозжечок. Глаза подают картинку горизонта, мозжечок сверяет всё с «чертежами» движения, а ухо фиксирует каждое наклонение головы.
Ухо, точнее его глубинная часть, устроено как мини‑гироскоп. Там прячется улитка и три тонких полукружных канала, наполненных особой жидкостью — эндолимфой. Поворачиваете голову — жидкость слегка набегает на чувствительные волоски‑рецепторы внутри канала. Мозг считывает: «мы наклонились вправо на столько‑то градусов». Если резко запрокинуть голову, эндолимфа делает волну, рецепторы возбуждаются сильнее — отсюда ощущение рывка. Для продольных движений служит один канал, для поперечных — второй, для наклонов вперёд‑назад — третий; все работают в паре с такими же каналами во втором ухе, чтобы мозг сравнивал «лево‑право» и считал среднюю точку равновесия.
Стоит жидкости закружиться не по правилам — например, когда в канал заплывёт тот самый блуждающий камешек отолит — мозг получает ложный сигнал, будто вы вращаетесь, хотя стоите неподвижно. Глаза по инерции дёргаются вслед «движению», мозжечок пытается подстроить мышцы, и человек ощущает чистое головокружение.
Иногда ко мне заглядывают с простой, на первый взгляд, жалобой: «Доктор, никогда не укачивало, а теперь стоит сесть в маршрутку — и через десять секунд мутит». Так вот, наш вестибулярный «центр» — это постоянный переговорщик между глазами, внутренним ухом и мозжечком. Глаз видит, что пейзаж бежит; улитка при этом молчит, потому что тело неподвижно; мозжечок получает два несовпадающих донесения и впадает в ступор. В итоге получается классический сенсорный конфликт: организм не верит ни глазу, ни уху, и запускает защитный рефлекс — тошноту.
Отсюда привычное наблюдение: на переднем сиденье машины укачивает меньше. Там обзор широк, глазам проще объяснить мозгу, что мы движемся по траектории, а не сидим в заточении. На заднем же ряду видишь лишь мелькание боковых домов — зрительный поток рваный, мозгу не за что «зацепиться», и конфликт разгорается.
Если человека начинает штормить минут через сорок пути — это не патология, а вопрос тренировки. Советую банальные вещи: чаще ездить короткими рывками, смотреть вперёд, а не в окно, жевать резинку — равномерные жевательные движения отвлекают мозжечок и сглаживают конфликт. Кто-то спасается мятными леденцами, кто-то — аудиокнигой, чтобы «заземлить» внимание.
Другое дело, когда пассажир бледнеет и хватается за пакет уже на первом светофоре, причем и спереди, и сзади, в любом транспорте. Тут я всегда проверяю чувствительность слухового и вестибулярного анализатора: бывает, после тяжёлого стресса или при повышенной тревоге рецепторы становятся сверхвозбудимыми, любое ускорение превращается в шторм. Таким пациентам иногда помогает курс бета‑сертама — он слегка притупляет реакцию лабиринта и даёт желудку шанс не протестовать. Скажу честно: это не лечение, а временное приглушение симптома, но на время командировки работает.
Историй про «чудодейственный метод навсегда» у меня нет. Укачивание — это по сути неровный диалог органов чувств; чем чаще мы ставим их в одинаковые условия, тем лучше они учатся договариваться. Так что если поездка по городу — всего лишь лёгкая качка, лучший рецепт звучит скучно: тренироваться. А вот если человек выходит из такси трясущимся, с резью в ушах и головокружением, и так каждую поездку — стоит заглянуть ко мне: исключим гиперчувствительность лабиринта, проверим слуховую трубу, назначим щадящую схему, чтобы дорога перестала быть морем.
>>Click here to continue<<